Работники 11 часа кто это
Опубликовано: 17.02.2026
Слово первое. О законе духовном Поелику вы многократно желали узнать, как закон, по слову апостола, духовен есть[5] и что должны знать и как поступать желающие сохранять его, то скажем о сем по силе нашей.1. Во-первых, надобно знать, что Бог есть начало, средина и конец всякого
Слово шестое. О духовном рае и законе[382]
Слово шестое. О духовном рае и законе[382] Как из явных дел можно уразуметь сокровенный образ мыслей, так из дел души можно уразуметь то, о чем говорится в Писаниях. Но могут сие [постигать] не все, а лишь те, которые злостраданием отчасти приобрели бесстрастие. Ибо Писание
Слово 4. О благодати Божией
Слово 4. О благодати Божией Вопрос: Почему может познавать кто-либо, достиг ли он совершенной благодати, или нет?Ответ: Где благодать — источник жизни, там добрые дела от сердца истекают; когда Дух Святой посетит, тогда и всякий труд облегчается, и непрестанная молитва от
Глава XXII О законе Божием и законе греховном
Глава XXII О законе Божием и законе греховном Божество — благо и преблаго; такова же и воля Его. Ибо то, что Бог желает, — благо. Закон же есть заповедь, научающая этому, чтобы мы, пребывая в нем, были в свете; нарушение заповеди есть грех. Грех же происходит от внушения
§ 115. Учение откровения ο благодати. Виды благодати. Односторонние понятия ο благодати.
§ 115. Учение откровения ? благодати. Виды благодати. Односторонние понятия ? благодати. I. Освящение человека или усвоение людям плодов искупления производит даруемая Богом по заслугам Искупителя благодать (. gratia). Слово «благодать», означая вообще благой дар (от
Слово о законе и благодати
Слово о законе и благодати Эту, по-видимому, проповедь митрополита Илариона, произнесенную в середине XI в., можно считать первым православным произведением Древней Руси. В середине XI в., через полвека после принятия христианства на Руси, митрополит Иларион – первый
10. Хозяева и работники
10. Хозяева и работники В качестве образчика добродетелей просвещенного хозяина мы можем взять Рамараи, верховного жреца Амона.«О жрецы, писцы дома Амона, достойные служители божественных жертвоприношений, пекари, пивовары, кондитеры, все, входящие в эту мастерскую в
Слово 20. О диавольском борении и вспомоществовании Божией благодати
Слово 20. О диавольском борении и вспомоществовании Божией благодати Враг душ наших диавол не столько веселится, нанося нам тяжкие и неудобостерпимые мучения, как если в малых и легких побеждает нас. Того ради и старается прежде малыми [и легкими] прихотями, вожделениями
ДИАЛОГ ШЕСТОЙ. О ЗАКОНЕ И БЛАГОДАТИ
ДИАЛОГ ШЕСТОЙ. О ЗАКОНЕ И БЛАГОДАТИ Неизвестный. Знаешь ли, что я сейчас чувствую? Как будто бы мы долго-долго поднимались в гору и наконец вышли на ровное место. Дорога и дальше трудная, но всё же какая-то другая. Не в гору, а прямо. Может быть, это чувство меня
ДИАЛОГ ШЕСТОЙ. О ЗАКОНЕ И БЛАГОДАТИ
ДИАЛОГ ШЕСТОЙ. О ЗАКОНЕ И БЛАГОДАТИ Неизвестный. Знаешь ли, что я сейчас чувствую? Как будто бы мы долго, долго поднимались в гору и наконец вышли на ровное место. Дорога дальше трудная, но все же какая-то другая. Не в гору, а прямо. Может быть, это чувство меня обманывает, но
6. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: что вы стоите здесь целый день праздно?
6. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: что вы стоите здесь целый день праздно? Около 11 часов, по-нашему, около 5 часов
7. Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит им: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите. 8. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. 9. И пришедшие около одиннадцатого часа
7. Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит им: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите. 8. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. 9. И пришедшие около
45. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого;
45. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого; (Мк. 15:33; Лк. 23:44). Синоптики здесь сходно определяют время появления тьмы. Раньше точное указание времени встречается у Иоанна, который считает по римскому (и малоазиатскому) времени (19:14 — следует читать "пятница
Слово второе О законе естественном
Слово второе О законе естественном 1. Не хочу, чтоб вы не ведали, братие, что в начале, когда создал Бог человека, то вселил его в раю, и он имел тогда чувства здравые, стоящие в естественном своем чине; но, когда послушал прельстившего его, превратились все чувства его в
И ВРАТА АДОВЫ НЕ ОДОЛЕЮТ ЕЕ ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ МИТРОПОЛИТ ИЛЛАРИОН "СЛОВО О ЗАКОНЕ И БЛАГОДАТИ"
И ВРАТА АДОВЫ НЕ ОДОЛЕЮТ ЕЕ ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ МИТРОПОЛИТ ИЛЛАРИОН "СЛОВО О ЗАКОНЕ И БЛАГОДАТИ" КРЕЩЕНИЕ В КОРНЕ изменило всю русскую жизнь. Видя себя в новом положении с новыми понятиями, русский человек неизбежно задавался вопросами о новых христианских
II. Реалии духовного мира
II. Реалии духовного мира Зло и грех 39. «Ложь – это заблуждение разума, а зло – заблуждение воли. Признаком, по которому определяется то и другое есть суждение самого Бога… то, чему Он учит человека – истина, то, чего повелевает желать – благо, а [всё], противоречащее этому,

Недавно перечитывала этот евангельский отрывок, и он впился мне в сердце, как осколок.
1 Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой
2 и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой;
3 выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно,
4 и им сказал: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли.
5 Опять выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же.
6 Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: что вы стоите здесь целый день праздно?
7 Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит им: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите.
8 Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых.
9 И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию.
10 Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию;
11 и, получив, стали роптать на хозяина дома
12 и говорили: эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной.
13 Он же в ответ сказал одному из них: друг! я не обижаю тебя; не за динарий ли ты договорился со мною?
14 возьми свое и пойди; я же хочу дать этому последнему [то же], что и тебе;
15 разве я не властен в своем делать, что хочу? или глаз твой завистлив от того, что я добр?
16 Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных (Матф. 20:1–16).
Не знаю, как вы, а я когда-то втайне думала, что работники одиннадцатого часа, в общем, довольно неплохо устроились. Целый день занимались не пойми чем, валяли дурака и не утруждали себя, а в самом конце дня вскочили в уходящий поезд. Не то чтобы мне жалко было для них динария (как работникам первого часа), но. и особого сочувствия у меня эти горе-садовники не вызывали.
А потом я перечитала этот отрывок снова.
6 Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: что вы стоите здесь целый день праздно?
7 Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит им: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите.
Праздно. Эти люди целый день простояли на торжище, на самом солнцепеке, праздно, то есть бесполезно. Вокруг них ходили другие, занятые делом. Вокруг них выбирали других, а они стояли праздно и никому не нужно. Час за часом, под палящим восточным солнцем, все отчетливее понимая, что время уходит, а работа не сделана и денег им никто не заплатит. А самое главное ― они никому не нужны. Они совершенно не востребованы на этом торжище, и это только их беда: никому до них нет дела.
Мы не знаем, почему они оказались в таком состоянии, почему не вошли в число работников, которых Хозяин призывал в первом, третьем, шестом, девятом часу. Может быть, они не пошли за Ним, потому что сочли, что динарий ― это слишком мало и можно, постояв и поторговавшись с другими, найти себе заработок побольше. Может, сочли, что работа в винограднике ниже их достоинства и сейчас им предложат что-нибудь «поприличнее». Может быть, отвлеклись, пока Он призывал других поработать, ― таращились на какие-нибудь базарные диковинки, играли в кости, трепались друг с другом ― и пропустили подошедшего Работодателя. А может, им просто не хотелось работать и думалось: вот-вот, ну вот еще немножко, еще часик побездельничаю ― и займусь делом. И еще часик. И еще часик. И еще часик.
У них явно был шанс ― и в третьем, и в шестом, и в девятом часу, ― но они его упорно пропускали. Но вот наступил вечер ― и они вдруг поняли, что день прошел, ничего не сделано, денег нет, а впереди ― темнота.
По мне, если честно, больнее всего именно от того, что за весь день оказался никому не нужным (по крайней мере, не нужным настолько, чтобы тебя все-таки за шкирку потащили поработать). И неважно (об этом как-то забывается), что ты сам не сделал шаг навстречу Работодателю. Кажется, что тебя, именно тебя не выбрали, тебя бросили и забыли на этой базарной площади, потому что именно ты ― плох и негоден. Ты ничтожество, ты зря прожил день, ты зря прожил жизнь. Ты плохой, ты, ты, ты.
Признаться, когда-то я втайне завидовала работникам, которых призвали попозже: мол, и там и здесь успели. Типа как блаженный Августин: и в молодости покуролесил, и блаженным к старости стал. После того как я на минутку ощутила, какую горечь, какое разочарование в себе и в жизни должны ощущать те, кто весь день ничего не делал и к вечеру пришел ни с чем, я поняла, что страшнее участи быть просто не может.
Но вот приходит Хозяин и все-таки уводит их в Свой виноградник. Эта притча просто затоплена отчаянием и милосердием. Они, наверное, шли за ним, не веря своему счастью. Наверное, им было перед Ним стыдно: явно не первый раз они видели Его на торжище, только раньше вот не отзывались на зов. И, идя в виноградник, конечно, сомневались в исходе мероприятия: уж, конечно, за остаток дня много они там не сделают и свой динарий явно не заработают. Тем не менее Он именно столько платит запоздавшим, а пришедшие раньше начинают возмущаться.
Возмущаться, совершенно не понимая, что им заплачено, в сущности, дважды.
Они даже не представляют, от какой боли и горечи, от какого унижения и раздирающего душу отчаяния избавил их Хозяин, наняв с утра или чуть позже. Целый день у них было дело. Они знали, что делать и для чего они это делают. Их день осмыслен, заполнен, они востребованы, они нужны, они выбраны. Они знают, что не останутся без вознаграждения. Само по себе это уже награда, и нехилая. Тем более если мы вспомним, Кто Хозяин виноградника ― и то, что виноградник они на самом-то деле возделывали для себя. Это им в нем жить и наслаждаться его плодами (если опять же переносить притчу в жизнь).
У них двойная награда: до краев полная смыслом жизнь (рабочий день), работа в немалой степени НА СЕБЯ, и ЗА ЭТО ― еще и динарий. В сущности, это не Хозяин в долгу перед ними, а они ― перед Ним. А они еще начинают выкобениваться. «Я дал тебе и смысл жизни, и награду, ― мог бы сказать Хозяин. ― Чем ты еще недоволен?»
Не знаю, как вы, а я здесь вижу отчетливую параллель с притчей о блудном сыне и с поведением старшего сына, который отлично жил в доме отца, пользовался всеми благами («все Мое ― твое»), а в конце обиделся, что, дескать, ради младшенького тельца закололи, а для него даже из ягненка шашлык не делали. Что работники первых часов, что старшенький просто не понимают своего счастья.
Но какой же детской глупостью выглядят эти вздорные ребяческие претензии на фоне переплетшихся милосердия Божьего и человеческого отчаяния. Во всем Его милость. Во всем и ко всем.
Сказал Господь такую притчу: Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой; выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. Опять выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: что вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит им: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию; и, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них: друг! я не обижаю тебя; не за динарий ли ты договорился со мною? возьми свое и пойди; я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе; разве я не властен в своем делать, что хочу? или глаз твой завистлив оттого, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных.
Притча о работниках последнего часа – с точки зрения современного человека, в плане экономики или социальной справедливости – совершенно непонятна. Любой нормальный предприниматель скажет вам, что такое ведение хозяйства не может не привести к полному разорению. Любой нормальный рабочий потребует, чтобы оплата производилась согласно сделанной работе и возмутится произволом хозяина. Но все подобные суждения слишком поверхностны, чтобы быть истинными. Мы должны найти центральный смысл притчи, и тогда все подробности станут на свои места.
«Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой». С самого начала мы предупреждены, что перед нами не поучение на социальную тему, но откровение Царства Небесного. В притче работники, трудившиеся в винограднике от третьего, шестого и девятого часа, заключили с хозяином определенный договор, но, видя то, что получили работники одиннадцатого часа, они неожиданно потребовали дополнительной платы. Но справедливое с социальной точки зрения требование может называться порой по-другому – как отстаивание своего и отсутствие любви к ближнему как к самому себе. В конце концов, ведь не работники одиннадцатого часа просили, чтобы их дольше трудившиеся товарищи получили больше!
Переведя притчу из области трудовых соглашений в духовную сферу, мы можем увидеть, что именно такие отношения нередко у нас бывают с Богом. Неужели обратившийся к Богу на смертном одре после беспутно прожитой безбожной жизни, может оказаться рядом со мной на небесах, или даже будет вознесен несравненно выше? Или наши посты и длинные церковные службы ничего не значили, в то время как он с безумными толпами спешил к своим зрелищам мимо храма? Нам трудно представить его в благодатной вечности, пусть даже если он и возвратился к Богу как блудный сын. Мы подобны тому старшему брату, исполненному праведного, как нам кажется, возмущения происходящим. Нам не нравится эта непостижимая щедрость Бога. Мы предпочли бы, чтобы Бог действовал согласно нашим законам. Мы могли бы позволить Ему любить никем не любимых на наших условиях, соблюдая установленный по нашим меркам порядок.
Это Евангелие провозглашает одну из главных истин нашей веры, о которой непрестанно повторяет апостол Павел: «Все согрешили, все лишены славы Божией, но оправданы даром Его благодати» (Рим. 3, 23–24). Этими вечно недовольными ропотниками в притче во времена земной жизни Спасителя были книжники и фарисеи, которые не переставали негодовать на Христа, за то, что Он собирал вокруг Себя мытарей, грешников и блудниц. Язычники, не знавшие ранее истинного Бога, входили в Церковь наравне с принявшими Христа иудеями. У Бога нет ни для кого привилегий. «Или глаз твой завистлив оттого, что я добр?» – говорит Христос.
Обратим внимание также на то, что искушение идеей справедливости относится не только к иудеям. Человечество непрестанно требует справедливости. В самом деле, жизнь должна быть более справедливой во всех отношениях. Однако не трудно заметить, что программы, основанные на идее справедливости, часто приводят к самой жестокой несправедливости. Опыт прошлых веков и особенно нашего времени показывает, что недостаточно одной справедливости, если она препятствует действию более глубинной жизненной силы, которая есть Христова любовь. Без этой силы, которая крепче греха и смерти, без того, чтобы она была положена в основание всего, невозможно устроение человеческой жизни. Но непреложно слово Христово, обращенное к верным: «Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» (Лк. 6, 36).
Эта притча могла бы дать великую надежду многим. И, может быть, прежде всего родителям, дети которых отошли от Церкви. Ничто навсегда не потеряно для Бога. Он будет звать до последней минуты. Пока жив человек, не бывает слишком поздно. И мы знаем, как Господь показал исполнение этой притчи в последний момент жизни разбойника благоразумного, распятого вместе с Ним. И мы должны постоянно помнить заключительные слова притчи: «Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». Каким бы усердным ни было наше христианское жительство, сколь бы активна ни была наша христианская деятельность, мы должны всегда считать себя рабами ни на что негодными. Но негодные не означает ничего не стоящие. В очах Божиих каждый из нас стоит того, чтобы за него можно было умереть. И это вовсе не теория. Христос умер за нас. И наше достоинство – в этом нашем причастном Его смерти и воскресению бытии, а не в том, что мы делаем. Что бы мы ни делали – это ничто, но мы должны стать подобными Христу смирением и полным отсутствием себялюбия. Многими трудами и скорбями можем мы обрести этот дар, и только с ним будет дана ни с чем не сравнимая радость узнать, что Божественная самоотдающая любовь обращена к нам. Потому что в Царстве Божественной справедливости работники одиннадцатого часа – это мы.
Еле-еле поспеваем к Пасхе, может еще и не успеем, скажут нам: двери закрыты, места нет, на всех места не хватит, «нас всех тошнит». Во понедельник – от постной еды. Во вторник – от человеческого греха. В среду – от страха смерти. В четверг – перестает тошнить. Что еще сделать? «Что Мне еще сделать для вас?» Пора взять на себя ответственность за свое поведение. Побыть немножко взрослыми? Страстная же все-таки. Скоро закончится – будем, как говорится в пасхальном каноне, прыгать «веселыми ногами». Будем снова маленькими. Но это все потом. А пока что – Страстную надо просто пережить. Просто как-нибудь дожить до того, чтобы пройтись со свечкой в Крестном ходе на Пасху. Дальше все пойдет само собой. Все пойдут поспевать за ходом событий.
Говорят, что Евангелие Иуды (не «от Иуды»), перевод которого только что появился в Сети – «ересь». Но на современном русском языке «ересь» – это чушь. А «чушь» - это информация, которую наше сознание отторгает как что-то «несовместимое» с ним, используя все возможные «модули» отвержения – страх, отвращение, равнодушие, забвение, или даже внезапное желание послушать какую-нибудь другую чушь. В принципе, это верно по отношению к любому Евангелию – не даром же оно, словами апостола, для евреев соблазн («скандалос»), а для всех остальных – и вовсе безумие. Тогда давайте прежде чем вынести окончательное суждение о новой книжке, посмотрим, что это за «чушь» и почему она хочет (если она на самом деле так хочет), чтобы мы ее услышали именно в эти дни.
Правильнее было бы назвать эту книгу евангелием об иудах. Речь в нем идет о нас – о нашем последнем поколении сексуальной революции, абортов, узаконенного мужеложества в иерархии христианской церкви. Однако почему-то именно при этом поколении все и совершится.
«И они встретили Иуду, они сказали ему: «Что делаешь здесь ты?! Ты ученик Иисуса!» Он же ответил согласно их желанию. И Иуда взял деньги, он предал им Его».
Практически ничем его поведение от Петра не отличалось, говорит (на проповеди) священник Александр Ильяшенко, многодетный отец. Но покаяние Иуды было другим, чем у Петра – без надежды на Бога.
В этом евангелии даже не разрешается вопрос о том, что стало с Иудою в результате всех этих перипатетических упражнений. Согласно другим древним источникам, вполне авторитетным, хотя другие древние именовали его глуповатым, Иуда не задохнулся в петле, а сорвался с дерева, и потом долго ходил по змеле и его внутренности вываливались наружу. Возможно, иуда, когда висел в Петле, пережил то же, что те мальчики, которых вешал для произведения мандрагор Жиль де Рэ, тоже посмертно реабилитированный (а также, возможно, и русский tzar 19-го века Николай, кровавый гнобитель старой веры, когда два раза повесил Поэта). В таком случае, возможно, под той осиной, на которой висел Иуда, тоже выросла мандрагора.
Предатель – это передатель. Передатчик информации. «Смотрите. Кого я поцелую – тот и будет Иисус». Или доносчик, переносчик, проводник. Передает сигнал, проводит электрический ток. Устанавливает связь, переносит информацию, сводит-разводит мосты между Старым и Новым миром, между «этими» и «теми», между «правой» рукой, в которой милости ключи, и «левой» рукой, в которой Суд и Правда, всё, молчи.
А почему собственно нужно было кого-то предавать? Не всякий ли день Иисус сидит в храме и проповедует, как он сам об этом спрашивал? Видимо нет, не всякий. Секретное общество? «Туле»? Какие такие тайны? Надо расследовать? «Эоны», что ли? Это вряд ли, это для отводу глаз. О что же там было на самом деле? Кто были эти люди? Или не люди? Они хотели вывести расу сверхчеловеков?
«Ладно, так и быть, я вас приведу к нему, вот увидите, что из этого получится! – Тома Сойера, Гекльберри Финна, Мальчиша Кибальчиша, Васька Трубачева, Тимура и его команду, Принца и Нищего, Без семьи, Остров сокровищ, Робинзона Крузо, Алису в стране чудес. Какой «бог» простит мое предательство их?»
Побыть немножко Иудой. Предатель – это я. Предательство – это когда я пытался опередить, проконтролировать, предугадать, предотвратить, предупредить – всех и вся. Пытался чего-то избежать, а что-то приблизить раньше времени, по причине страха и стремления поскорее преодолеть его. Скорее предать это все ему. Предать своего Иисуса. Себя. «Что делаешь – делай скорее». Каждый такой иисус – еще один гвоздь в Его раны.
Иисус учил попранию всякой святыни: религиозной (ерусалимский храм), семейной («возненавидь отца и мать ради меня»), общечеловеческой («язычники – собаки»). Потенциально очень опасная тема для общества. Это джихад – но не про борьбу со своими страстями, как это имеется в виду в Коране. А про непримиримость в отношении всех и каждой из типичных установок, принятых в обществе. Радикально новое, «невозможное» отношение ко всем фундаментальным жизненным структурам и диспозициям. К телу, психике, смерти, любви, социальной идентичности, ритуалам, общению, к норме, к системе, к себе, к «другому» - ко всем и ко вся.
Непрерывная невыносимость (невыносимая непрерывность), с которой невозможно повременить. «Пожалуйста, еще пять минут, похоронить отца». – «Нет, иди за Мной». Разрушить мир взрослых, чтобы стать как дети – вернуться к отцу домой. Жиды – это взрослые, они пьют кровь детей. Без нее они бы давно вымерли. Иисус – это ребенок, убитый в каждом из нас. Но он может воскреснуть - нас на это хватит.
Смерть – глупая бабенка. У ней не хватило силенок удержать Жениха. Он дал ей развод, освободив всех, кто по Закону стал его официальными детьми. Тех же, кого по разводу оставил ей, он уже не спасет. Он ничем не сможет помочь тем, кто больше возлюбил её, больше доверил ей, больше поверил в нее и понадеялся на нее. Тем, кто принял порядок вещей века (эона) сего, он же преходит (постепенно уходит) для тех, кто встречает Новый – и как жаль тех, кто остается в этом.
В Евангелии есть миф о глупых бабенках, которые ждали жениха – но не имели светильников света, а только светильники тьмы. Человек, который хотел жениться на этих десяти девушках, не принял пятерых из них, потому что в темноте не разглядел их лица, не узнал их, как и сотрудники правоохранительных органов Римской Империи не узнали бы и Иисуса в темноте, если бы не Иуда. А другие пять дев, у которых был свет, вышли за него замуж. Успеем мы или нет – зависит от нас. Нет никакого посылающего «на три буквы» Жениха. Но есть действительно реальная возможность не попасть. Чтущий да разумеет, а разумевающий да попадет.
Есть мнение. Настоящая любовь – это только та, ради которой ты можешь кого-то предать. Любишь меня – предай кого-то, предай его мне, вручи его мне, расскажи мне о нем. Любишь его – предай меня ему, расскажи ему обо мне, покажи его мне, меня ему, совмести нас, сделай нас ближе, как плюс и минус – электричество, как правое и левое. А есть мнение – нужно любить друг друга как Иуда любил Иисуса. Любить до предательства. «В руце твои предаю… тебя же самого». Отрешаясь от своих интересов, репутации, будущего. Так иногда романтики трактовали Иуду (Леонид Андреев и другие), а теперь вот и Евангелие нашлось, где в довольно туманной, гностической форме, но как-то смутно показано, что Иуда любил Иисуса. И поэтому предал его. Или не поэтому. А Иисус все время смеялся над ним (так говорится в тексте), называя его «тринадцатым бесом».
Наконец-то Иисус рассмеялся.
«Сказал Иуда:
«Учитель! Как ты слушал их всех, выслушай и меня, ибо я видел великое видение».
Иисус же, услышав, рассмеялся и сказал ему:
«Перестань утруждаться, тринадцатый бес! Но рассказывай, Я потерплю тебя».
Поблагодарим за это Иуду.
Над кем смеетесь? Над «Собою» смеетесь? А кто эта «Собь»? Мы с Вами это
знаем. Пусть же узнают и Они.
Приложение. Краткое изложение учения профессора Жака Деррида о деконструкции на примере новонайденного евангелия Иуды.
Евангелие содержит изложение некоего «тайного знания» об эонах, миродержителях века сего, ангелах, творящих материальный мир и проч. Оно излагается от имени «Иисуса» - верховного Обладателя такого знания. Одновременно в тексте присутствует фигура Иисуса, высмеивающего такого рода знание, называя его знанием демонов. Смерть автора в тексте происходит дважды: во-первых умирает Иисус, превращаясь в носителя парадигмы, во-вторых умирает в Иисусе сам автор-гностик, Иисус же при этом воскресает из гробницы фиксированного литературного образа. Третья смерть автора, сконструированного уже совеременным сознанием масс-медиа, подающего данный текст в качестве сезонного хита, происходит прямо сейчас у вас на глазах, когда данный текст оказывается пре-текстом для того, чтобы напомнить о необходимости пройтись со свечкой в руках в крестном ходу вокруг церкви.
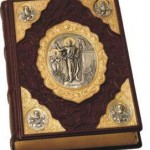
В Евангелии от Матфея (20:1-16) рассказана притча, которой нет у других евангелистов. Она заключена между двумя почти идентичными стихами: «И так будут последние первыми, а первые последними», а сюжет ее прост: господин нанимал в течение дня работников в свой виноградник, так что одни работали весь день, а другие – только вечером, по прохладе. Но он заплатил всем одинаково, по одному динарию, к обиженному недоумению первых, а о вторых не сказано ничего.
Современные толкователи говорить об этой притче не любят, слишком уж капризным выглядит этот хозяин, а его способ ведения дел – слишком нелепым, потому что лишает работника стимула. При социализме тоже платили всем одинаково – никто и не хотел работать. К тому же притча начинается словами «Царство Небесное подобно…», и странно думать, что оно подобно уравниловке и господским капризам.
В то же время, это одна из немногих евангельских притч, которые проникли в иудейские предания: ее рассказал рабби Зейра в надгробном слове учителю, а рабби Буна бар Хия поражал рабби Зейру тем, что любил ленивых и небрежных учеников так же, как старательных. Но в апокрифах, в текстах Кумрана и так далее не найти ничего подобного, и там бы эта мысль выглядела странно.
Но она не выглядит изолированной в Евангелии, где полевые цветы одеваются пышнее царя Соломона (Мф 6:28-29) и где в Нагорной проповеди человеку предлагается жить так, как будто зло в мире бессильно.
Эта притча, на мой взгляд, предлагает нам иное отношение к человеку: абсолютный, полный отказ от его оценки, не только его характера, но даже его поступков. Вместо этого предлагает простейший, но как показывает история, невыполнимый выход – любить его как он есть, созерцать, а не изменять. Мы встречаем нечто подобное и в Ветхом Завете, где постоянно говорится о царственной свободе Бога одарять, кого Он пожелает. Но притча о винограднике утверждает не только это. Она радикально отказывается от сравнения, по заповеди поэта: «не сравнивай, живущий несравним».
Еще Амвросий Медиоланский называл, как известно, притчу о блудном сыне Евангелием в Евангелии. Притча о винограднике линейней и проще, так что всё Евангелие постичь по ней, конечно, нельзя. Но зато по ней можно, на мой взгляд, почувствовать этику Иисуса, нравственность блаженств Нагорной проповеди.
Некоторые исследователи толкуют ее в категориях коммунистической справедливости: «от каждого – по способностям, каждому – по потребностям». Но здесь это звучит иначе: «каждому – всё». На этом не выстроишь экономики, но если изъять возможность такого взгляда из человеческой истории, у нас не останется никакой надежды на счастливый исторический конец – Царство Божие.
Требование такого взгляда мы найдем только в проповеди Иисуса. Но сам этот образ вечен и повсеместен в мировом фольклоре: он воплощен в фигуре баловня, лентяя, Иванушки-дурачка.
Что значит, что Иванушка – дурачок? Он может притворяться безумцем, как это делал Давид у филистимлян (1 Цар 21:10-13) и как в православной традиции часто поступают юродивые. Он может быть в самом деле дурачком, не хотеть работать, лежать на печи. Но только временно, как Емеля или Илья Муромец, или как преподобный Сергий в детстве не мог постичь грамоту.
Бывают и такие сказочные герои, которые живут так всегда: отдают без раздумий все свои деньги первому встречному, чтобы выручить котенка или вообще просто так. Такой Иванушка-дурачок непременно добр и жалостлив без меры, его поведение находит себе точную параллель в самых ранних христианских текстах, например, в «Дидахе», где предлагается раздавать милостыню, не глядя и не подумав.
Когда мы читаем эти сказки или жития юродивых, у нас возникает много вопросов. Старшие братья работают день и ночь, у них семьи. А дурак лежит на печи. С какой стати? Однако те, кому в наше время этот тип литературы адресован, никогда не удивляются. Маленькие дети знают, что так устроен мир. Они знают, что конфета, которой они угостили бабушку, вернется к ним нетронутой, что съеденный за обедом жареный цыпленок разгуливает назавтра по двору, что нужный растениям дождь надо попросить у Христа, но так, чтобы он пошел ночью и не испортил прогулку. То же самое доверие позволяет ребенку беспечно выходить на проезжую часть, или бросать стакан об пол, чтобы потом залиться горькими слезами, потому что он разбился.
Бесспорно, эта этика находится в противоречии с повседневным опытом. Но она отражает другой опыт и другое знание, не повседневное. Притча не начинается словами «Чему подобно положение поденщика в Палестине первого века», она начинается со слов о Царстве Небесном.
Чему оно подобно? Оно подобно волшебной сказке, жизненным «принципам» младенца, поведению юродивого, который, получив подаяние, кидает его солнечному лучу. Мы можем спросить себя: «Да, полно, может ли это быть в Евангелии, может ли такая наивность и беззаботность, такая безграничная инфантильность соседствовать со знанием о цене? Об отверженности, кенозисе, Кресте?» Искупление – это выкуп, плата Богочеловеческой кровью – но за что? За счастье детства, за сказку, за возможность и право жить по законам Царства, за ДАР. Без этого оно и не нужно.
Анна Шмаина-Великанова
Трудные места Евангелия: работники одиннадцатого часа
Источник
Читайте также:

